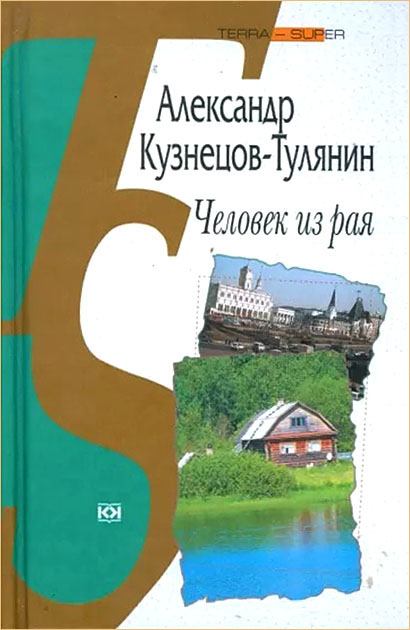через раздражение, через силу на следующий день разрешил себе заметить, что под монашеской косынкой – посветлевшее гладкое лицо, что опущенные глаза глубоки и темны, что вязаная серая кофта с аккуратно заштопанным локотком и спортивные брючки облачают не по-бабьи стройное тело, в котором силы, горячей нежной ярости хватит еще на много лет. А заметив все это, Бессонов как-то не утерпел и сказал вроде в шутку, но в которой скрыты были напряжение, настороженность, и ухнуло вдруг сердце, потому что протянулись нежданно-негаданно ниточки к такому далекому, трепетному, что когда-то в юности заставляло болеть душу:
– Что же ты все в платке, как бабка…
– Да это я… так… – смутилась Таня и тут же сдернула косынку, преображаясь, рассыпая на плечи волосы, жесткие от морской воды и не то чтобы неприбранные, а дикие, вольные той вольностью, которой много что позволено.
А он опять погружался в работу, в свой привычный шум, в котором – и сам не заметил почему и как – в эти дни убавилось и мата, и злости, а появилось что-то балагурное, бесшабашное. Мог он запеть рычащей глоткой, не обращая ни на кого внимания: «И только по морю плывет пароход!» И замечал: не его одного коснулась эта волна, трое других тоже стали будто заведенными, стремительными, говорливыми. И так все постепенно утрясалось в их оторванной от остального мира жизни, так становилось присутствие женщины на тоне для них желанным и приятным, что скоро они уже спрашивали с теми домашними интонациями, будто уже два года спрашивали это, по-хозяйски, как само собой разумеющееся:
– Татьяна, чем порадуешь на ужин?
И не хотелось Бессонову думать, оттеснял беспокойные мыслишки о том, что четверым крепким изголодавшимся мужчинам жить вот так, с постоянной оглядкой на женщину, с постоянной мыслью о ее присутствии, будет все труднее и труднее. А уж если суждено будет дойти до серьезного, то никакой разум, никакие доводы не помогут, да и не повеет тогда разумностью – все это улетит в тартарары, все тысячелетия эволюции, и выпрется наружу обезьянье мурло, которое речи человеческой не знает, не боится ничего: ни совести, ни закона.
Еще через пару дней подвернул к тоне кургузый сейнерок, похожий на древний угольный утюг из ржавого чугуна. Сейнерок завез два мешка с мукой и заряженные аккумуляторы для рации и уходил дальше, к северным тоням. Бессонов сказал Тане:
– Ну что ж, когда МРС пойдет назад, тогда и поедешь с ним.
Но Бессонов будто запамятовал, когда ходил к МРСу на рейд, сказать капитану, чтобы подвернул к тоне на обратном пути забрать пассажира. А когда мельком вспомнил, было поздно – МРС ушел. С этого момента он уже не силился подавить в себе наполнившее его томительное чувство, а отдался во власть безрассудству, как только и могут отдаться ему в полную власть либо юноши, меряющие время вечностью, либо, напротив, мужчины, которые давно уже увидели, отмерили и взвесили собственные пределы от и до.
Вечером Валера забежал в дом и принялся рассказывать о старом медведе, который жил в распадке по соседству. Валера, бледный, как-то нагнув чуть вбок и вниз голову, опустив руки, перепачканные подсохшей рыбьей кровью и слизью, немного заикаясь от волнения, говорил:
– Я пошел Тане помочь, – губы его тряслись, – взял пять горбушин и пошел к морю пошкерить… Так и сделал, помыл в море, несу их назад… взял под жабры, а две штуки упали в песок. Ну, думаю, потом заберу и обратно помою… Остальные понес, положил вон там и пошел назад, а их нету…
– Кого нету, Валер?
– Тех рыбин, которые упали. А в песке – следищи… Я тапками встал в след, обои тапки встали. Ну, думаю, хорошо, это он, тот самый, который на меня все время смотрит и смотрит, гад… Я его взгляд всегда чую. Я еще две горбуши в кусты кинул. Пускай жрет, гад… – Валера поднял перепачканные руки, посмотрел на них и опять опустил. Выйти к ручью за барак и отмыть руки от рыбьей крови у него пока не хватало смелости.
– Ты что же, ему весь ужин скормил? – засмеялся Бессонов. Он и Жора взяли ружья, вышли на улицу, увидели, что медвежьи следы, пересекая открытое место, уходили в кустарник за избушку и дальше к сопкам. Рыбаки зашли в высокую траву, бесцельно постояли в тишине, всматриваясь в даль и слушая вялое, редкое морское «пш-ш-ш» за спиной. Сопки размывало и топило тьмой, и каждому было понятно, что, конечно, никакого медведя уже нет поблизости. Они вернулись в барак.
А среди ночи Бессонов проснулся настолько внезапно, что пробуждением, очнувшимся сознанием немного даже опоздал от собственного взора – глаза уже четко, внимательно смотрели в желтый от луны и почему-то показавшийся до нестерпимости ярким прямоугольник окошечка. Что-то шумнуло снаружи, что-то, кажется, скрипнуло и будто ткнулось дерево о дерево. «Опять мишка пришел?» – подумал Бессонов. Он встал, посмотрел в окошко, но ничего не увидел, кроме залитого желтизной берега и по-лунному светлого, сине-молочного, мерцающего яркой чешуей моря. Тогда Бессонов накинул сорочку, взял с полочки два пулевых патрона, снял ружье с гвоздя, тихо зарядил и на цыпочках пошел к двери. Она оказалась не запертой на крючок, он осторожно пихнул ее, впуская в домик лунный свет, и тихо вышел. Никого не было во дворике, он обошел барак слева, потом справа, вернулся, постоял, прислушиваясь, и, будто что-то услышав от берега, осторожно пошел туда. И точно: на секунду увидел фигуру, оттененную луной, прочерченную темно и неразборчиво, но он сразу понял, что фигура человеческая. Он подошел к берегу и увидел: человек зашел в воду, в тягучие волны, и поплыл, не плеща, тихо и ровно. Бессонов уже знал, кто это. Он поискал глазами и увидел на камне сложенную одежду, прислонил ружье к камню и сел на другой рядом, удивляясь не столько странности Тани, сколько бесстрашию, а может быть, и не бесстрашию, а неспособности осмыслить окружающую ночь и темное море, удивляясь ее бесшабашности и терпению: вода с этой стороны острова из-за подходящего близко северного течения всегда по-весеннему холодна.
Минут через пять Таня уже плыла к берегу. Бессонов сидел не шевелясь, облокотившись о колени, и видел, как она стала выходить из воды, обнаженная, как осторожно ступала, боясь поранить ноги об осколки раковин, и рассеченная надвое луна, сиявшая своей желтой половиной над правым плечом Тани, блестела на ее плече, на руке и на маленькой вздернутой грудке. И ночь, море, женщина, слитые с лунным светом, – все это рождало в нем даже не решенность его сомнений последних двух-трех дней, а спокойное ощущение завершенности вообще каких-то общих тяжелых мыслей, составлявших его суть в последние годы.
Она, только выйдя на берег, увидела Бессонова и обхватила себя руками, закрывая грудь.
– Ой!.. Отвернись…
Но он и по ее интонации, и по движению угадал, что увидела она его и узнала, когда еще была в воде, когда шла к берегу. Он чуть отвернулся. Она стремительно подошла, потянулась к одежде, но он подался к ней, перехватил ее руку, притянул к себе и, поднимаясь с камня, поднял ее, мокрую, холодную, на руки. Она еще сильнее сжалась, съежилась, словно в испуге, он почувствовал ее дрожь и мурашки по холодной мокрой коже. Она сказала потухшим голосом:
– Не надо, Семён.
Он молча понес ее в сторону от избушки, чувствуя, как молотит у него в груди, и заполошно думая: «Дурак… как мальчишка…»
* * *
Бессонов теперь узнавал то, что ему доводилось только слышать: бывают женщины, в распущенности своей, в растленной легкости таящие неодолимую притягательность и нежность. И то, что прежде могло быть в нем брезгливостью по отношению к ней – так, по крайней мере, он мог бы назвать свои чувства, – вдруг обернулось в нем необузданной, бездумной и ревнивой жадностью.
Бессонов выходил к Тане в теплые ночи, и они по темноте шли подальше от избушки по пляжу и, захлебываясь страстью, валились на песок. Если же непогода набухала в небесах и накрапывал дождь, они прятались в такелажке, где пахло бензином от железной бочки и вяленой рыбой от кучи старых сетей. Измаявшись, они по полночи парили между сном и явью, лежа на сетях, и Бессонов слушал, как женщина, вжавшись, растворившись в нем, шептала горячо и влажно на ухо сквозь